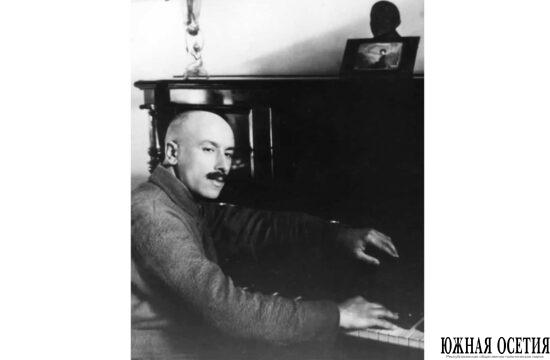К 190-летию со дня рождения поэта
Недавно на страницах газеты «Владикавказ» с интересом почитал маленькую заметку о великом венгерском поэте Шандоре Петефи с блестящим переводом на осетинский язык одного из лучших стихотворений поэта. Перевел стихотворение талантливый осетинский поэт и ученый Нафи Джусойты.
Эта публикация напомнила мне многое, а именно – какую роль сыграло творчество великого поэта Венгрии в моей нелегкой судьбе в тяжелые годы моей молодости и мне хочется вкратце рассказать об этом.
Со стихами Шандора Петефи я впервые познакомился будучи учеником старших классов средней школы. Я и сам уже тогда пытался писать стихи и произведения Петефи произвели на меня неизгладимое впечатление. Меня глубоко поразил его страстный патриотизм, а его искренняя любовь к родному краю сделалась для меня высокой и заветной мечтой в моей жизни. Служить любимой родине – это превыше всего и любой поэт достигнет высочайших вершин в творчестве, считая главной задачей своей жизни бескорыстное служение интересам народа. Я жил этими мечтами, ими были заняты все мои мысли, все мои воображения.
Главная тема в творчестве Петефи – горячая любовь к Венгрии, которой он посвятил всю свою короткую жизнь. Венгрия во времена поэта, была многострадальной. Почти входила в состав сильной Австрийской империи, для которой была поставщиком хлеба, сала и масла. Австрийские войска обращались с венграми, как с рабами. Венгерские крестьяне ждали только подходящего момента, чтобы общими усилиями изгнать иноземных поработителей. Они создали добровольческую армию и стали тщательно готовиться к жестокой войне. К тому времени Петефи уже становится известным поэтом – патриотом Венгрии, его песни распевались везде и всюду, имя его вдохновляло венгерский народ и призывало его на битву с внешним врагом. В одном стихотворении гениальный поэт восклицает:
«Любовь и свобода –
Вот все, что мне надо!
Любовь ценою смерти я
Добыть готов,
За вольность пожертвую
Тобой, любовь!
От стихов Петефи переходит к практическим действиям. Сбросив гражданскую одежду, он надевает военную форму и становится одним из организаторов военного сопротивления и страстно призывает венгерский народ к боевым действиям:
«Встань, мадьяр зовет отчизна,
Выбирай, пока не поздно, –
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле!
Богам венгров поклянемся
Навсегда.
Никогда не быть рабами,
Никогда!
Низок, мерзок и ничтожен
Тот, кому сейчас дороже
Будет жизнь его дрянная,
Чем страна его родная!»
Друзья поэта бережно оберегали его, зная, каким великим поэтом рискует венгерский народ в случае его гибели, хотели перехитрить, но поэт на уступки не шел, всегда находился в гуще боевых действий и в одном из них произошло непоправимое – великий поэт героически погиб и тело его было похоронено в братской могиле. Этот трагический случай произошел в июле 1849 года. Перед сражением он покинул свой дом, где провел последнюю ночь своей жизни и где сейчас мемориальная доска возвещает: «Здесь он был еще человеком, отсюда вышел в свой великий путь, чтобы стать звездой. Блеск его вечен».
Погиб он на боевом посту в возрасте 26 лет.
В 1951 году в моей жизни произошли крутые перемены. Члены молодежно-патриотической организации «Растдзинад» были арестованы и осуждены по политическим мотивам. Мне дали 25 лет, отправили отбывать наказание на Крайний север и поместили в специальный режимный лагерь. Тогда мне было только двадцать лет. В заключении я очень переживал за маму. У нее было трое детей – два сына и дочь. Когда наш отец скончался, мне было четыре года. У нас не было своего жилья. Мама была медицинской сестрой и своей скудной зарплатой содержала нас. Жили мы очень бедно. Было очевидно, что она очень переживает за своего младшего сына. Я не мог известить ее о своем положении, судебные органы лишили меня права переписки на один год, а письма из лагеря отправлялись через управление под строжайшей цензурой. И тогда я решил искать возможность через вольных людей, которые работали в лагере шахтерами. Был один осетин из Северной Осетии. Я попросил его отправить письмо ко мне домой, но он не только не согласился, но был так напуган моей просьбой, что даже здороваться перестал. Было очень опасно входить в контакт с политзаключенными. Тогда я сделал солдатский треугольник, вложил туда записку – всего одну фразу: «Милая мама, не беспокойся за меня. Чувствую себя хорошо» и сдал в управление. А может, пройдет – думал я, но номер не прошел. На третий день меня поместили в карцер на пять суток за нарушение лагерного режима. Записку я пытался отправить через шесть месяцев, а запрет был на один год.
В лагере я очень нуждался в духовной пище, которой у меня не было. В библиотеке была одна политическая литература – труды классиков марксизма – ленинизма, биографии вождей коммунизма, материалы разных партийных съездов, которые даже в руки никто не брал. В лагере царил произвол. Одни работали в шахте, другие в Горстрое – строили «Комсомольский город Воркуту». Те, кто не выполнял норму, избивались бригадирами. Хорошо помню, как один здоровый бригадир по фамилии Дорзникс схватил за горло рабочего и стал душить. Рабочий задыхался и кричал «негодяй, негодяй, негодяй!» Этот рабочий был профессором философии. Я пристыдил бригадира. « А что мне делать, – кричал бригадир, – с меня требуют выполнение плана, а разве с такими дохлятинами можно выполнить такие большие планы? – закричал он на меня, – убирайся, пока я тебе морду не набил».
После смерти великого вождя товарища Сталина положение в лагере резко улучшилось. Произвола уже не было, номера с заключенных сняли (раньше все заключенные носили номера. Мой номер, например, был 1Щ- 191), питание улучшилось, рабочим стали выплачивать деньги, правда немного, но все же какие-то копейки, стали освобождать многих, особенно иностранцев, а в лагере их было очень много – румыны, болгары, поляки и т. д. В библиотеку завезли огромное количество книг. Там была как русская классика, так и зарубежная литература. Там я впервые увидел объемистую книгу рассказов классика осетинской литературы Арсена Коцоева в переводе на русский язык. Но моей огромной радостью стало то, что я обнаружил в каталоге книгу стихов любимого поэта Шандора Петефи. Эта книга стала до конца моего пребывания в лагере моей путеводной звездой. Я учил наизусть эти чудесные стихи, они воодушевляли меня, морально поддерживали, давали мне силу и мужество в тех тяжелейших условиях. Я и сейчас помню один стих наизусть, который всегда читал с огромной радостью:
«Мать родная написала мне письмо –
Приезжай, сыночек, милый, жду давно.
Ах, вернулся бы я, матушка, давно.
Да должно быть здесь погибнуть суждено.
Сквозь оконце я гляжу в ночную мглу,
Вижу плац, да часового на углу, Боже,
Боже, где родимые края,
Я не знаю, где ты, матушка моя».
Имя Шандора Петефи дало мне возможность познакомиться в лагере с молодым венгерским поэтом. Как-то проходя мимо нар в бараке, я видел ребят, сидевших в углу и слушавших чтение на непонятном мне языке. Текст читал незнакомый мне молодой человек, которого раньше никогда не видел. Вид чтеца был очень изможденный. Было видно, что он где-то много выстрадал, но все же держался, а остальные ребята дружным хохотом поддерживали его. Чтение стихов незнакомцем заинтересовало меня и я спросил о нем моего знакомого – венгра Фанглера. Он мне сказал, что читал свои стихи венгерский поэт Александр (Саша) Буковецки и что он отказник, недавно переведенный в наш лагерь. «Отказник» – лагерный термин. Так называли отказывающихся от любых работ заключенных. Поговаривали, что раньше, в период страшного произвола их просто убивали. При мне такого уже не было. Их судили, но прежде долго держали в карцере, надеясь тем самым сломить их волю. В карцере их держали в тяжелейших условиях.
Что из себя представляет лагерный карцер? Я не знаю, как обстояло дело в других лагерях, но в нашем лагере была внутренняя тюрьма и называлась она БУР – барак усиленного режима. В БУРе были холодные и теплые камеры. Наказанных сперва держали в холодных камерах. Там снимали всю верхнюю одежду, оставляя лишь нижнее белье. Днем приходилось стоять, так как негде было присесть. Доски деревянные, служащие якобы для лежанья, днем прикреплялись к стене на них невозможно было ни сидеть, ни тем более спать, так как морозы доходили до 40 градусов. На день давали триста грамм хлеба и пол литра воды. Когда были сильные морозы, то больше часа не держали в карцере, чтоб от переохлаждения заключенный не умер. Час держали в холодной, затем переводили в теплую камеру и после двух часов его опять отправляли в холодную. Отказников после пяти суток отпускали и если они все еще упорствовали, то через несколько дней снова оказывались в камере. Так продолжалось, пока заключенный или не умирал, или не начинал работать, как все.
Александр Буковецки уже отсидел четыре раза, но никак не сдавался, отказываясь от любой работы. Мы познакомились, разговорились. Узнав, что я осетин, очень удивился. Этот этноним он услышал впервые и никакого представления не имел о Кавказе. Как известно, в Венгрии есть город Ясбрень, основателем которого были аланы – Яссы. Местные жители знают, что они выходцы с Кавказа и являются потомками алан. Буковецки этому не верил и считал, что это выдумка каких- то лжеученых. «Не может этого быть, чтобы предки алан основали город в Венгрии». Я не стал с ним спорить по этому поводу. Он в совершенстве владел русским языком, писал стихи и на венгерском, и на русском языках. Он читал мне русские стихи, довольно удачные, и они мне очень нравились. Когда я ему сказал, что зря себя губит своим отказом от работы, он обиделся на меня и твердо сказал, что на своих врагов никогда не работал и работать не будет и незачем уговаривать его.
Шандор стал интересоваться осетинской литературой. Я дал ему два тома стихов Коста Хетагурова. Все три тома прислал мне в лагерь мой брат, будущий заслуженный художник. Стихи Коста ему очень понравились, особенно русские и я попросил его перевести некоторые из них на венгерский язык. Он с радостью согласился и сам же отобрал стихи: «Фесæф», «Хъуыбады», «Толпа», «В решительную минуту», «Катай». Были и другие, но я уже не помню. Он их переписал и передал своему другу Фанглеру, чтобы тот сохранил их до его выхода из карцера. Он знал, что вот-вот его вновь пригласят в это мрачное заведение. О дальнейшей судьбе этого несчастного талантливого поэта я уже ничего не узнал, так как меня вскоре освободили. Перед отправкой я оставил свой домашний адрес Фанглеру, чтобы он сообщил мне о нем и о переведенных стихах тоже, но к великому сожалению, я от него никаких вестей не получил. Я просил об этом известного осетинского писателя Алексея Дмитриевича Букулова, мы были в одном лагере и после моего освобождения он там оставался еще почти два года, но и он ничего не узнал о Буковецком. Впрочем, в 1954 году стали массами освобождать заключенных, особенно иностранцев, и я надеюсь, что молодой венгерский поэт тоже был освобожден и вернулся на родину.
Владимир Ванеев,
лауреат Госпремии имени Коста Хетагурова, дипломант литературного конкурса «Золотой Дельвиг» (Москва).